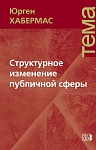Формирование и эволюция публичности (о книге Ю. Хабермаса)
Обзорная рецензия посвящена первому переводу на русский язык книги немецкого социолога и философа Ю. Хабермаса «Структурное изменение публичной сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества». Монография содержит углубленный анализ существа коммуникативной основы социума, который не потерял своей актуальности. Хабермас рассматривает формирование и эволюцию гражданского общества и публичной сферы, историю появления общественного мнения и дает подробный анализ нюансов смысла термина public opinion – opinion publique – öffentliche Meinung.
При личном общении он производит сильное впечатление. Первая и единственная моя встреча с «живым классиком» Ю. Хабермасом произошла 18 ноября 2009 г. после его лекции на философском факультете МГУ им.
Книга, о которой идет речь, удивляет своей необычной историей. Впервые она появилась на родине ученого в 1961 г., однако перевод на русский язык впервые сделан только в конце 2016 г. Не менее «герменевтическое» обстоятельство в судьбе книги, прославившей ученого у него на родине, это то, что на английском языке она появилась через 27 лет после первого германского издания. Перевод на русский язык сделан по немецкому изданию 1990 г., до которого монография переиздавалась 17 раз. Дело в том, что предисловие к изданию 1990 г. — очень важная для читателя часть, в которой философ объясняет, что с падением Берлинской стены «„догоняющая революция“ в Центральной и Восточной Европе на наших глазах придала злободневность процессам структурного изменения публичной сферы» (с. 9), и было немыслимо переиздавать в очередной раз книгу без нового, критического взгляда. Новое пространное предисловие помогло преодолеть дистанцию в одно поколение, поскольку изменились вненаучный и познавательный горизонты современной истории, и взгляды самого ученого (с. 10). Поэтому обратим особое внимание на предисловие в связи с тем, что «отбор, статистическая релевантность и сравнительная оценка исторических тенденций и примеров (как при любом социологическом обобщении) представляют собой проблему, сопряженную с рисками» (с. 11).
Ученому удалось преодолеть риски использования вторичной литературы. В этом примечательном труде Хабермас (прежде всего на базе материалов, касающихся Англии, Германии и Франции XVIII и XIX вв.) рассматривает условия и механизмы формирования типа публичности, который «образует исторический фон для модерных форм публичной коммуникации» (с. 15). При этом автор не упрощает проблемы, а делает предметом анализа сосуществование «жизненных миров» (Lebenswelt), образующих ту сложность мира, которая стала лейтмотивом в творчестве не только Хабермаса [Habermas, 2001: 147], но и виднейшего феноменолога Э. Гуссерля (см. [Husserl, 1970]). Он исследует причины появления протосети публичной коммуникации, которая возникает к концу XVIII в. в Британии и в Германии на базе кофеен и клубов. При этом в Германии «читающую публику, выходящую за пределы „республики ученых“, составляют прежде всего
Идеи Хабермаса о публичной сфере получили развитие в работах многих современников, например, недавно ушедших из жизни П. Бергера и Т. Лукмана [Berger, Luckmann, 1971], доказавших, что социальный порядок конструируется и эволюционирует исключительно в результате человеческой деятельности. Э. Гидденс развивает и уточняет хабермасовское толкование публичной сферы, утверждая, что в ее воспроизводстве участвуют правила, которые подчиняются определенным алгоритмам и которые можно описать с помощью математических формул,- «техники или обобщенные процедуры, применяемые в принятии (воспроизводстве) социальных практик» [Giddens, 1986: 21].
При чтении невольно наталкиваешься на «трудности перевода». Например, крайне удивляет замена термина «общественное мнение» на непривычное выражение «публичное мнение» (действительно, если у нас уже есть «публичная сфера», «публичная политика», то, следуя линейной логике, и «мнение» соответственно обязано быть «публичным»). Тем не менее выражение «общественное мнение», со времени выхода в 1922 г. одноименной книги У. Липпмана, насколько закрепилось в нашем тезаурусе, что приобрело неустранимую инерцию и, видимо, в социологической терминологии останется стоять как скала.
Это понятие Хабермас детальным образом рассматривает в книге. Чтобы дополнить полноту картины, сопоставим хабермасовскую интерпретацию слова «мнение» с современными толкованиями. В дефиниции, приведенном в недавно вышедшем словаре
Слово opinion и в европейских языках также обнаруживает некую амбивалентность. Оно восходит к греческому слову doxa. Как утверждают Ж. Делёз и Ф. Гваттари: «Doxa — это такой тип пропозиций, который выглядит следующим образом: дана некоторая
Судя по анализу Хабермаса, мнение из частного превратилось в общественное, пройдя долгий путь трансформаций. Только у Ж.-Ж. Руссо оно квалифицируется как принадлежащее обществу, а не отдельным индивидуумам или келейным группам. Именно великий французский просветитель, утверждает Хабермас, впервые употребил термин opinion publique.
В наше время, когда с появлением социальных сетей эмоции начали доминировать в
Публичная сфера в эпоху появления и развития новых мультимедиа претерпевает разительные перемены, которые во многом предвидел и описал Хабермас. Появилось принципиально новое «кибернетическое пространство», «виртуальное сообщество» и даже «кибернетический полис», в котором возможно возрождение социальных отношений, свойственных идеализируемому древнегреческому полису [Hitlz, Turoff, 1993: 196]. Но скорее коммуникационное пространство взорвет информационный шок (infoshock), нежели в кибернетическом полисе возникнет желанная атмосфера «электронной агоры», вызванная к жизни верой во «всеспасительную миссию современных СМИ», — считает петербургский исследователь В. Гуторов: «Помимо ностальгии по простоте отношений, присутствовавших в древнегреческих полисах или средневековых городах Италии, в этом убеждении подспудно скрывается мысль о том, что граждане в современных демократических обществах уже на в состоянии спасти себя сами и надежда может быть возложена только на помощь извне,
Впрочем, тут мы вступаем на зыбкую почву модальной системы отношений, пронизанной, по словам М. Хайдеггера, «релятивностями» и «коррелятами» (
Хабермас в упомянутой статье, присланной в «Полис», пишет, что «множественность „cовременностей“ указывает на определенную ориентацию на культурную фрагментацию» [Хабермас, 2010]. Значение для нас идей немецкого мыслителя заключается в том, что в эпоху великой миграции в Европу с Ближнего Востока и Африки его гуманистическая концепция призывает нас к консенсусу в межкультурной коммуникации и к высокому порогу толерантности, без чего в сегодняшнем «жизненном мире» неизбежен конфликт различных конфессиональных и культурных ценностных систем.
|
Хабермас Ю.
пер. с нем.
2016 г.
|
-
Журнал «Коммуникология», 2017. Том 5. № 4. С.25-32