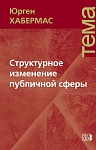Трансформация общественного мнения в эпоху глобальной нестабильности
Автор предлагает нам углубленную обзорную рецензию на вышедшую в 2016 году в издательстве «Весь мир» книгу выдающегося немецкого мыслителя Юргена Хабермаса «Структурное изменение публичной сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества» (Habermas, Jürgen. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft). Эта книга, по мнению исследователя, содержит интереснейший анализ существа коммуникативной основы социума. Хабермас прослеживает генезис общественного мнения в период и зарождения и дает подробнейший анализ нюансов смысла в некоторых европейских языках термина public opinion – opinion publique – öffentliche Meinung. Автор рецензии согласен с мэтром коммуникологии Феликсом Шарковым, что давно пора навести более строгий порядок в терминологии, которой пользуется коммуникология. Монография Хабермаса – лучший пример такой селективной стратегии.
Изданная «Всем миром» книга «живого классика» коммуникологии Юргена Хабермаса имеет свою долгую и любопытную историю. Немецкое издание этой ранней работы ныне крупнейшего немецкого мыслителя (Habermas Jürgen.
Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft) впервые появилось 1961 г. и сразу же сделало начинающего автора звездой первой величины на европейском интеллектуальном небосклоне. До издания 1990 г., которое взято в основу перевода, книга выдержала 17 переизданий. При этом, несомненно, интереснейший анализ существа коммуникативной основы социума дан автором именно в предисловии к изданию 1990 г., когда мировая структура вошла в зону турбулентности с обрушением Берлинской стены и другими потрясениями в Восточной Европе.
По загадочным причинам перевод монографии на английский язык вышел лишь через 27 лет (The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge (Mass.): The MIT Press. 1991. ISBN 0262581086). Равным образом трудно объяснить, почему эта книга, будучи важной вехой в творчестве Хабермаса впервые переведена на русский язык столь поздно.
Как рассказал мне директор Издательства «Весь Мир» Олег Александрович Зимарин, возглавляемая им издательская фирма опубликовала такие труды немецкого мыслителя, как книг «Философский дискурс о модерне» (в 1998 и 2003 гг.), «Будущее человеческой природы: На пути к либеральной евгенике?» (в 2002 г.), «Расколотый Запад» (в 2008 г.), «Между натурализмом и религией. Философские статьи» (в 2011 г.), «Ах, Европа» (в 2012 г.), «Эссе к конституции Европы» (в 2013 г.).
В целом в этой работе ученый анализирует (прежде всего на фактографии, касающейся Англии XVIII и XIX вв.), какими были условия и механизмы формирования публичной сферы в тот период раннего капитализма, а затем — каким образом она вошла в кризисное состояние уже в середине XX в.
В книге изучаемым нами реалиям общественного мнения прямо посвящены 3 главы: Гл. IV. Буржуазная публичная сфера — идея и идеология (Параграф «Public opinion — opinion publique — oeffentliche Meinung» [Хабермас: 149–165]. Гл. VI. Изменение политической функции публичной сферы. (Параграф 20. От журналистики частных
Наиболее революционной (многим она может показаться сомнительной) «находкой переводчика» следует считать замену привычного всем термина «общественное мнение», которое впервые в общепринятом смысле употребил Уолтер Липпман в одноименной книге, вышедшей в 1922 г., на термин «публичное мнение». Возникшая терминологическая разноголосица имеет вполне логичное объяснение. Тут иная логическая цепочка: если есть «публичная сфера», «публичная политика», то и мнение, дескать, должно быть «публичным». Мне кажется, что подобная инновация не приживется в тезаурусе нашей коммуникологии — прежде всего по причине инерционности терминологии, которая бежит перемен.
Термины, обозначающие одинаковые или сходные понятия в коммуникологии множатся на наших глазах, и можно согласиться с теми экспертами, которые утверждают: «На быстро разросшемся поле терминов коммуникологии и коммуникативистики давно пора навести более строгий порядок» [Шарков: 135]. Иначе уже в ближайшее время мы выстроим вокруг нашего профессионального поля такой частокол терминологии, что мы сами не будем понимать, как с ним справиться. Например, в случае нарушения коммуникационных связей в социуме нарастает аномия, или, выражаясь образным языком Хабермаса, «обезъязыковление». Впрочем, нынешние социологи предлагают еще более онаученный термин — «сайленсизация», что переводится как «тактика игнорирования», «онемение гражданского сегмента электората» [Карпова: 216].
Следуя призыву мэтра коммуникологии, обратим особое внимание на том, что с течением времени термин public opinion претерпел значительные интерпретационные трансформации, оброс толкованиями, но остается одним из ключевых понятий современной социологии, обладающим изоморфическим характером.
Хабермас дает подробнейший анализ нюансов смысла в некоторых европейских языках термина opinion, которое усваивает оттенки смысла латинского opinio — «мнение, сомнительное, не полностью доказанное суждение» [Хабермас: 149]. Искусственная терминология философии в данном случае соответствует смысловому пониманию языка повседневного, от, например, понятия doxa, введенного Платоном, до гегелевского Meinen Для Хабермаса (и вслед за ним для нас) важно понять, что слово opinion в определенный момент приняло еще одно значение — «репутация, престиж». Например, посмотрим у Шекспира: «…yet opinion, a souvereign mistress of effects, throws amore safer voice on you» — «…людская молва считает вас более надежным защитником. А ведь всеобщая любовь немало значит в достижении успеха» («Отелло», акт 1, сцена 3) [Хабермас: 150].
Созревание термина — от тривиального персонального мнения (opinion) к закрепившемуся в позднем XVIII в. выражению public opinion — это длительный процесс, свою роль в котором сыграли многие философы. Томас Гоббс, например, в книге «Левиафан» описал государство, которое не зависит от убеждений подданных и определил «цепь чередующихся мнений» — от faith до judgement [Хабермас: 151].
Джон Локк через год после выхода «Левиафана» представил Law of Opinion как некую категорию, которая соответствует по рангу божественному и государственному законам. Law of Opinion судит добродетели и пороки. Поэтому полная формула звучит уже так: Law of Opinion and Reputation [Хабермас: 152].
Только один философ сделал тогда решительный шаг, перейдя от личного opinion к opinion publique. И это был
Для Эдмунда Бёрка (1729 — 1797) мнение резонерствующей публики — уже не просто opinion, а его источник — не просто склонность, но частные размышления о public affairs и публичное обсуждение. Свою точку зрения он изложил в отправленном избирателям письме On the Affairs of America. Бёрк использовал термин general opinion, но скоро понятие получит новое имя — public opinion. Первое документальное подтверждение этого относится к 1781 г. и зафиксировано в Оксфордском словаре [Хабермас: 155–156].
Во Франции первым, кто продумал общественную роль появившегося у Руссо понятия opinion publique был, по мнению Хабермаса,
У
Франсуа Гизо (1787 — 1874) — представитель следующего поколения, читавший с 1820 г. лекции о происхождении и истории буржуазного государства. Ему принадлежит классическая формулировка господства «публичного мнения»: «Признаком системы, невозможной при абсолютизме, является побуждение граждан к постоянному поиску истины, разума и справедливости, чтобы повлиять на реальную власть». Гизо также уточнял, какими признаками должна обладать представительная система: 1) наличие дискуссии, побуждающей «правящие круги к совместному поиску истины; 2) публичность, благодаря которой власти ведут этот поиск на глазах у граждан; 3) свобода прессы, подталкивающая граждан к тому, чтобы самим искать истину и делиться ею с властями» (там же) [Хабермас: 163].
Крайне интересны рассуждения Хабермаса о кантовской трактовке публичности как принципе посредничества между политикой и моралью [Хабермас: 166–181], о том, что Кант называет «публичным согласием», а Гегель — «публичным мнением» (ffentliche Meinung), о диалектике публичной сферы у Гегеля и Маркса [Хабермас: 181–193]. При кратком пересказе, однако, аргументированность и красота мысли Хабермаса теряются; его лучше читать не в изложении, а смаковать многочисленные подробности и детали.
В целом, в топосе «публичное мнение» происходила кристаллизация самопонимания функции буржуазной публичной сферы. Его значение окончательно установилось только в последней четверти XVIII в. И Юргену Хабермасу удалось проследить весь этот путь глазами мыслителей разных лет, отметив ключевые моменты превращения opinion в public opinion.
Хабермас отмечает, что «по мере того, как публичная сфера становится инструментом коммерческой рекламы, частные лица в качестве собственников начинают незаметно влиять на частных лиц в качестве публики. При этом, конечно, коммерциализация прессы способствует превращению публичной сферы в некий медиум рекламы» [Хабермас: 263]. Более того, «именно пребывание в частных руках неоднократно ставило под угрозу критические функции публицистики… — подчеркивает ученый. — Чем сильнее их (СМИ — ред.) публицистическая эффективность, тем больше они подвержены давлению частных интересов, хоть индивидуальных, хоть коллективных. Если раньше пресса могла лишь способствовать резонерству частных лиц, собравшихся в публику, и усиливала его, то теперь это резонерство, наоборот, формируется средствами массовой информации. На пути от журналистики частных
Проблема, обозначенная Хабермасом, имеет крайне актуальное значение для коммуникации в сегодняшней России, прежде всего для медийных процессов, проходящих в глубинке. Так, по свидетельству Л. Никовской и В. Якимца, специально изучающих вовлеченность массмедиа российских регионов в формирование гражданского общества, ссылаются, в частности, на любопытное высказывание общественника из Ярославской области, зафиксированное в ходе их полевых исследований: «С одной стороны, СМИ зависимы, так как принадлежат органам власти и поэтому дают одностороннюю интерпретацию ситуации. С другой — эту ситуацию поправляет интернет. Если к информации, полученной по ТВ, радио или из газет, добавить отфильтрованные новости и обсуждение в социальных сетях, электронных изданиях, то можно сложить достоверную картинку. Но сложно говорить о дискуссии, так как традиционные СМИ — односторонний инструмент, а в интернете — достаточно узкая аудитория» [Никовская, Якимец: 41], которая все более индивидуализируется, превращаясь в
Немецкому философу и социологи по сути удалось задолго до появления современных мультимедийных средств предугадать их пути развития и взаимосвязь с трансформацией формальных государственных институтов и специфику их функционирования, о которой пишут многие исследователи в наше время. Среди подобных работ выделим книгу Дж. Робинсона и Д. Аджемоглу «Почему одни нации богатые, а другие бедные» [Robinson, Acemoglu: 8], в которой проводится различение «экстрактивных» и «инклюзивных» институтов (первые, концентрируя власть в руках узких элитарных групп, предоставляют шанс обогащения, «экстракции выгод»), а вторые, плюралистические и вместе с тем централизованные (хотя вовсе не обязательно демократические), дают возможность получать преимущества более широким слоям населения прежде всего от устойчивого экономического развития государства. Именно инклюзивные политические институты способствуют формированию разветвленной медийной системы, тогда как экстрактивные институты склонны всячески подавлять свободу слова и ограничивать СМИ. В то же время ни один политический институт не может избежать упадка, неудач в развитии, задержек или откатов, либо по причине отсутствия гибкости, либо
Книга Хабермаса полностью современна и по методологии, и по аргументации. Но, мне кажется, ее значение не ограничивается лишь
Мне кажется, именно по этим причинам книгу Хабермаса было бы полезно вставить в программы университетских курсов социологии, социальной психологии, массовой коммуникации и вообще рекомендовать подрастающему поколению, которое находится в режиме поиска жизненных ориентиров.
Источники
- Асмолов А.Г., Асмолов Г.А. 2009. От
Мы-медиа кЯ-медиа : трансформации идентичности в виртуальном мире // Вопросы психологии. № 3. С. 3–15. - Карпова А.Ю. 2016. Кризисная коммуникация: Маркеры информационной аномии в региональном телевидении / Томский политехнический университет. Томск:
Изд-во Томского политехнического университета. 220 с. - Никовская Л.И., Якимец В.Н. 2017. Качество публичной политики и продвижение общественных интересов: российская специфика // Публичная политика. № 1, с. 29–53.
- Шарков Ф.И. 2017. Конвергенция элементов политического медиапространства // Полис. Политические исследования. 2017. № 3. С. 135–143. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.09
- Хабермас Ю. 2016Структурное изменение публичной сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества. С предисловием к переизданию 1990 г. / Пер. с нем.
В. В. Иванова . — М.: Весь мир. — 344 с.
|
Хабермас Ю.
пер. с нем.
2016 г.
|
-
Социологические исследования, 2017. № 12. С. 168-172